Халтрин-Халтурина Е.В.
Антология поэтических форм в
“Старой Аркадии” Филипа Сидни // Стих и проза в европейских литературах Средних
веков и Возрождения / Отв. ред. Л.В. Евдокимова; Ин-т мировой литературы
им. А.М. Горького.– М.: Наука, 2006.– С. 117-136.–
1,5 п.л.
Иллюстрации, помещенные
на этой веб-странице,
добавлены сюда автором статьи.
Е.В. Халтрин-Халтурина
Антология поэтических форм
в “Старой Аркадии” Филипа Сидни:
под знаком противостояния Аполлона и
Купидона

 Обещая в письме, датированном
18 октября 1580 г., брату Роберту прислать рукопись своей “затейливой
книжки, Бог даст, к февралю”[1], Филип Сидни имел в виду
первый вариант пасторального романа, известного
в истории литературы как “Старая Аркадия”. Роман этот создавался для семейного
развлечения, и главным его адресатом была младшая сестра поэта Мэри Пемброук.
Вышедшее из-под пера Сидни прозиметрическое произведение состояло из пяти
книг-действий, чередующихся с четырьмя группами пастушеских эклог, которые
более поздние исследователи творчества Сидни называют интермедиями. Действуя в
соответствии с принципами, высказанными в “Защите поэзии”, согласно которым
функция литературы не только развлекательная, но и дидактическая, Сидни ставит
в своем романе вопросы нравственного, политического и даже
историко-литературного характера. Его повествование содержит 77 стихотворных
вставок, которые весьма разнообразны по содержанию, объему, используемым
размерам, наконец, жанровым особенностям. Здесь встречаются различные твердые
формы (секстина, двойная секстина, сонеты разных типов, венок десятистиший), а
также подражания античным строфам – сапфической, асклепиадовой, фалекию.
Некоторые стихотворные вставки близки по своему содержанию и стилистическим
особенностям к средневековым жанрам (фаблио, блазон)[2]. В романе используются
терцины, октавы, александрийский стих; имеются пастушеские дебаты и ламентации,
эпиграммы и эпиталама.
Обещая в письме, датированном
18 октября 1580 г., брату Роберту прислать рукопись своей “затейливой
книжки, Бог даст, к февралю”[1], Филип Сидни имел в виду
первый вариант пасторального романа, известного
в истории литературы как “Старая Аркадия”. Роман этот создавался для семейного
развлечения, и главным его адресатом была младшая сестра поэта Мэри Пемброук.
Вышедшее из-под пера Сидни прозиметрическое произведение состояло из пяти
книг-действий, чередующихся с четырьмя группами пастушеских эклог, которые
более поздние исследователи творчества Сидни называют интермедиями. Действуя в
соответствии с принципами, высказанными в “Защите поэзии”, согласно которым
функция литературы не только развлекательная, но и дидактическая, Сидни ставит
в своем романе вопросы нравственного, политического и даже
историко-литературного характера. Его повествование содержит 77 стихотворных
вставок, которые весьма разнообразны по содержанию, объему, используемым
размерам, наконец, жанровым особенностям. Здесь встречаются различные твердые
формы (секстина, двойная секстина, сонеты разных типов, венок десятистиший), а
также подражания античным строфам – сапфической, асклепиадовой, фалекию.
Некоторые стихотворные вставки близки по своему содержанию и стилистическим
особенностям к средневековым жанрам (фаблио, блазон)[2]. В романе используются
терцины, октавы, александрийский стих; имеются пастушеские дебаты и ламентации,
эпиграммы и эпиталама.
Следовательно, в своей попытке
совместить “приятное с полезным” Сидни создал для сестры своеобразную антологию
жанровых форм, уникальную по своему разнообразию для Англии конца XVI столетия.
Мы попытаемся проследить, какая связь существует между тематикой и формой
стихотворений, представленных в “Старой Аркадии”, как стихотворные формы
распределены между персонажами и частями романа, а также как представления
Сидни о сущности и функциях поэзии отразились в созданной им системе жанров. <Конец стр. 117 указ.
издания.>
Каждая антология строится по
некоторому принципу. Наш подход к роману как к антологии жанровых форм помогает
обнаружить определенную “систему координат”, присутствующую в “Старой Аркадии”:
переходя к стихотворной речи – будь то в книгах-действиях или интермедиях,–
главные герои произведения, как правило, обнаруживают свое подданство Аполлону
или Купидону. Купидон в стихах “Старой Аркадии” представлен как демонический
антипод солнечного божества. Вознося хвалу одному божеству, герои тем самым
отрекаются от другого, что непосредственно сказывается на форме их стихотворных
высказываний и на их последующей судьбе в романе.
 Открыто тема противостояния
Аполлона и Купидона заявлена в первой интермедии. При свете факелов и перед
лицом венценосного семейства Аркадии пастухи исполняют хороводные песни и
эклоги о безответной любви. И Купидон – пожалуй, единственный раз за все время
романа – “материализуется” у них на глазах. Как пишет Сидни, ошибочно увидев в любовных песнях юных пастухов лишь выражение
чувственной страсти, вдохновленной Купидоном, два убеленных сединами пастуха,
Герон (греч.
“возраст”) и Дикус (греч. “справедливость”), решают выступить против божества и выпороть кнутом
этого по-детски пухлого младенца. В то же время Дикус снимает личину с
Купидона, нарисовав на плакате его “истинное” лицо: морщинистый дьявол с
рогами, ослиными ушами, раздвоенными копытами, все тело которого усыпано
глазами, восседает над виселицей. В правой руке Купидон держит лавровый венок,
в левой – кошель с деньгами. Изо рта его спускается бечева с портретами мужчины
и женщины – двух его жертв. Это описание кажется весьма необычным: оно вызывает
в памяти скорее стихотворение “L’Amore del Diavol tien semblanza” (ок. 1290 г.) Фредерико дель Амбы и гравюры из более
ранних книг эмблем[3], чем традиционный
ренессансный образ Купидона[4].
Открыто тема противостояния
Аполлона и Купидона заявлена в первой интермедии. При свете факелов и перед
лицом венценосного семейства Аркадии пастухи исполняют хороводные песни и
эклоги о безответной любви. И Купидон – пожалуй, единственный раз за все время
романа – “материализуется” у них на глазах. Как пишет Сидни, ошибочно увидев в любовных песнях юных пастухов лишь выражение
чувственной страсти, вдохновленной Купидоном, два убеленных сединами пастуха,
Герон (греч.
“возраст”) и Дикус (греч. “справедливость”), решают выступить против божества и выпороть кнутом
этого по-детски пухлого младенца. В то же время Дикус снимает личину с
Купидона, нарисовав на плакате его “истинное” лицо: морщинистый дьявол с
рогами, ослиными ушами, раздвоенными копытами, все тело которого усыпано
глазами, восседает над виселицей. В правой руке Купидон держит лавровый венок,
в левой – кошель с деньгами. Изо рта его спускается бечева с портретами мужчины
и женщины – двух его жертв. Это описание кажется весьма необычным: оно вызывает
в памяти скорее стихотворение “L’Amore del Diavol tien semblanza” (ок. 1290 г.) Фредерико дель Амбы и гравюры из более
ранних книг эмблем[3], чем традиционный
ренессансный образ Купидона[4].
В елизаветинской Англии
Купидона чаще всего изображали в виде крылатого нагого “putto” с луком и
стрелами, заменяемыми иногда факелом (таким он, кстати сказать, появляется и в
цикле сонетов “Астрофил и Стелла”[5]). Что касается острых когтей грифона, хорошо известных современникам
Боккаччо, то к елизаветинским временам они практически вышли из моды. А слепота
Купидона, ассоциировавшаяся со скрытностью, ночным мраком, нечувствительностью и грехом и некогда позволявшая сближать его со
Смертью и Фортуной, в Англии периода Ренессанса уже не была неотъемлемой чертой
бога любви. Описания Купидона стали предметом импровизаций и “jeu d’esprit”,
популярных при королевском дворе, – и поэты позволяли себе рассуждать об Эроте
с известной долей вольности, зачастую приписывая слепоту невинности, а зрячесть
вожделению, чтó Сидни с успехом и демонстрирует на протяжении всего романа.
Выслушав выступление Дикуса,
правитель Аркадии Базилий удивляется столь непривычному, дьяволоподобному
изображению Купидона и спрашивает, почему пастух преобразил любезного малыша до
неузнаваемости. <Конец
стр. 118 указ. издания.> В ответ Дикус толкует смысл эмблемы прозой и стихами.
Последние, “Poor painters oft with silly poets join” (“Нередко горе-живописцы и
легкоумные поэты, объединясь…” – № 8[6]), представляют собой
шестистишия, написанные пятистопным ямбом (строки рифмуются абабвв; в нечетных строках первый
слог получает дополнительное ударение). Дикус сообщает, что Купидон – вовсе не
небесное создание, а внебрачное дитя Аргуса и Ио, бог похоти, распространяющий
“заразу” влюбленности. Столь гневное обличение Купидона не могло не вызвать у
слушателей опасений – и молодой пастух Хистор (греч. “история”), пытавшийся
закрыть себе уши во время пения Дикуса, напоминает собравшимся о мстительности
Купидона, которую пришлось испытать на себе даже “самому Аполлону”. Предпочитая
не комментировать распри богов, осторожный Хистор ограничивается лишь тем, что
обращает внимание собравшихся на противоборство Аполлона и Купидона –
противоборство, которое вносит раздор в Аркадию.
Примечательно, что, принимая
сторону того или другого божества, герои Аркадии, как правило, выбирают и
определенную форму речи. Например, Дикус клеймит Купидона дважды: как прозой,
так и стихом. Хистору же, несмотря на его желание повторить увещевание о могуществе Купидона еще и в форме песни, в
сложении стихов отказано. Как только Хистор собирается приступить к пению,
Герон демонстративно прерывает его под предлогом, что “неприлично языку
молодого человека злоупотреблять вниманием солидных слушателей”[7]. Как мы увидим, это далеко не
единственный случай, когда герои “Старой Аркадии” ставят под сомнение
пригодность той или иной формы речи, того или иного жанра для своих
высказываний.
Во всех интермедиях главными
певцами являются пастухи, почитающие Аполлона. Если у пастухов речь заходит о
Купидоне, то в стихотворении он всегда получает негативную оценку, в то время
как в “демократичной” прозе иногда допускаются и речи в защиту Купидона,
подобные рассказам Хистора.
В книгах-действиях же,
населенных героическими и куртуазными персонажами, которые решают проблемы
нравственного долга и любовного служения, выбор речевых и жанровых форм не
столь предсказуем. У каждого из главных героев – немолодого правителя Аркадии
Базилия, юных иноземных принцев Мьюзидора и Пирокла – своя серия испытаний, и
эти испытания отражаются в последовательных сериях стихотворений. Поскольку все
упомянутые герои страстно влюблены, Купидону посвящено подавляющее большинство
поэтических вставок в книгах-действиях: главным образом сонетов, разнообразных
по стилю и способу рифмовки. Их количество особенно возрастает в третьей книге,
что совпадает с кульминацией драматического напряжения. Но как и в интермедиях,
в книгах-действиях положительно заряженный отточенный стих получает “особый
статус” по сравнению и с “демократичной” прозой, и с
негармоничным или сниженным стихом[8]. <Конец стр. 119 указ.
издания.>
“Старая Аркадия” Сидни
обладает признаками драматического произведения. И это неудивительно. Поэт был
окружен людьми, определявшими лицо и судьбу английского театра. Родной дядя
Филипа и Мэри, лорд Лестер, был не только в течение длительного времени
фаворитом королевы Елизаветы и позднее отчимом Пенелопы Деверё (прототипа
Стеллы сиднеевского цикла сонетов), но и покровителем первой из влиятельных
английских театральных трупп, названной его именем – “Люди Лестера”. Труппа эта
просуществовала с 1559 по 1588 г. (год смерти Лестера). Именно
из этой труппы вышел Джеймс Бёрбедж, выстроивший в 1576 г.
первое в Англии стационарное здание для представлений – “Театр” (“The
Theatre”), в котором “Люди Лестера” надолго обосновались. По утверждению
некоторых исследователей, именно к труппе Лестера, выступившей в Стратфорде-он-Эвон в 1586 г.
присоединился Шекспир[9]. А шутом Лестера одно время,
в частности сопровождавшим его в Нидерланды в 1585–1586 гг., был Уильям
Кемп, знаменитый комик того времени, для которого Шекспир позже создаст роли
ткача Основы (Bottom) для “Сна в летнюю ночь”, Ланса (Launce) для “Двух
веронцев” и, возможно, даже Фальстафа. С другим великим комиком, Ричардом
Тарлтоном, Филип Сидни был не только знаком лично, но и – вопреки всем
классовым предрассудкам – породнился, став крестным отцом его сына[10]. Такая вовлеченность Сидни в
судьбы театрального мира не прошла бесследно для текста “Аркадии”.
Сидни не только называет части
своего произведения “книгами или действиями” (“books or acts”), но и организует
пространство романа, подобно пространству драматического произведения; кажется,
что персонажи “Старой Аркадии” перемещаются по сцене театра того времени, то
спускаясь на самый нижний ярус сцены в так называемый люк-“ад” (“the hell”), то
задерживаясь на среднем ярусе – просцениуме, где находится пространство
цветущего луга, то воспаряя ввысь до королевского балкона и даже выше: до
“хижины-небес” (“the heavens”)[11]. Следовательно, выстраивая
стихотворный материал в рамках своей антологии, автор учитывает не только
распределение жанровых форм между героями, но и их звучание в разных частях
сцены: между “небесами” и “адом”, соотносящимися с сияющим божеством
(Аполлоном) и демоничным духом (Купидоном).
Поскольку действие романа
происходит на территории Аркадии, определяющими являются поступки правителя
Аркадии герцога Базилия. Именно его троекратное восстание против порядка –
отречение от трона в форме прозы, отречение от Феба ради возлюбленной в форме английского
квинтета, отречение от Феба ради темноты ночи в форме итальянского сонета –
накладывает на него ответственность за отравление нравственной атмосферы
вверенной ему страны. Отвергнув главное солнечное божество и дельфийские
предсказания, которые облечены в форму “половинного сонета”[12] (четверостишие и терцет),
Базилий бросает вызов нормальному течению времени, определяемому движением
солнца. Чтобы избежать предсказанных оракулом несчастий, Базилий вместе с женой Гинисией, дочерьми и <Конец стр. 120 указ.
издания.> прислуживающим
семейством буффона Даметаса скрывается в лугах Аркадии. Туда же следуют
инкогнито Мьюзидор и Пирокл, влюбленные в дочерей Базилия Памелу и Филоклею.
После отречения от трона герцог отмечает свой День рождения, День “свадьбы”, День “смерти”, День “воскресения” в четыре следующие друг за
другом дня; к концу романа все предсказания оракула благополучно сбываются и
никто из героев не погибает. События жизни герцога становятся определяющими
вехами в судьбах всех героев “Аркадии”. Поэтому в первую очередь мы рассмотрим стихотворные речи
Базилия и его супруги Гинисии.
С Базилием связано всего
восемь стихотворных вставок из 77 (№ 1, 15, 26, 38, 52, 55, 59, 69),
которые если и поются им, то без сопровождения музыкальных инструментов, что
примечательно: другие венценосные мужи “Старой
Аркадии” пользуются музыкальными инструментами. Мьюзидор, например, играет на
пастушеской свирели, лире и арфе. Пирокл предпочитает сопровождение лиры и
лютни. Считалось, что между музыкальной гармонией и божественной гармонией
космоса существует прямая связь; поэтому от благородного человека и
образованного придворного ожидалось, что он умеет и настроить инструмент, и
исполнить на нем приятную мелодию. Ясно, что, не давая в руки Базилию,
исполняющему любовные песни, ни лиру, ни арфу, ни лютню, Сидни подчеркивает его
разлад с гармонией мира.
Некоторые стихотворные
вставки, связанные с Базилием, не получают не только инструментального
сопровождения, но и голосового звучания. Например, предсказание оракула
(№ 1), воспринятое герцогом на слух, доходит до читателя благодаря летописанию автора “Старой
Аркадии”. Сам же Базилий никогда не повторяет этого предсказания в стихотворной форме. Однако
он несколько раз на протяжении романа пытается интерпретировать вещие стихи
прозой – и каждый раз ошибочно. А свое стихотворное отречение от Феба ради
нового идола, своей возлюбленной, Базилий преподносит ей в “немом” виде –
начертанным на бумаге.
Особняком стоит ежегодный гимн
аркадийцев Аполлону (№ 26). Он является примером вокальной музыки из
репертуара Базилия, но, будучи поэзией не любовной, а сакральной, гимн не
утрачивает гармонии от отсутствия инструментального сопровождения. Мелодичное,
полифоническое звучание гимна достигается здесь благодаря согласному сочетанию
голосов людского хора. Гимн Аполлону объединяет всех героев как книг-действий,
так и интермедий; пространственно он звучит на всех ярусах сценической площадки
Аркадии. Базилию же, который по долгу службы руководит исполнением гимна,
полагается возносить голос с балкона. Александрийский стих, которым написан гимн, не был широко распространен в
английской поэзии конца XVI в. Его использование в “Старой Аркадии”, судя
по всему, связано с интересом Филипа Сидни к творчеству поэтов французской
“Плеяды”. Как свидетельствует переписка Эдмунда Спенсера и Габриэля Харви
1579–1580 гг., в Лондоне было образовано поэтическое общество “Ареопаг” в
подражание французской “Плеяде”. Известно, что поэты “Ареопага” пи-<Конец стр. 121 указ.
издания.>сали
труды по просодии и классическому стихосложению и что Филип Сидни был среди
наиболее видных членов этого Общества[13].
Что же подчеркивает Сидни
подобным выбором не столь привычного для его английских современников стиха
гимна Аполлону? Вот как М.Л. Гаспаров комментирует интерес к александрийскому
стиху в современной Филипу Сидни Франции: «Новые ренессансные жанры,
ориентированные на античность и старавшиеся отмежеваться от средневековых
традиций, хотели подчеркнуть это и выбором стиха. <…>. <…> в
XVI в. (александрийский стих.– Е.Х.-Х.) был воскрешен поэтами “Плеяды”, чтобы напоминать в
эпосе об античном гексаметре, а в драме об античном триметре. В трагедии он
появляется у Жоделя, в эпосе у дю Бартаса (1550–1560-е годы). Первое время
он делит роль длинного стиха с 10-сложником (причем 12-сложник гордо называется
“героический стих”, а 10-сложник пренебрежительно “общедоступный стих”, “vers
héroique” и “vers commun”). Но в XVII в. он торжествует над своим
соперником окончательно»[14].
Стало быть, строки традиционного гимна сиднеевской Аркадии должны были
воскресить героический дух античности. Базилий, однако, несмотря на свое
непосредственное участие в пении, поддержанию такого духа не способствует.
Службу Аполлону он совершает без души, оставаясь глухим к смыслу произносимых
слов, ибо мысли его (как показывает прозаическая часть текста, примыкающая к
стихам) исполнены порочной страсти к “амазонке”. На следующих страницах романа
Базилий переиначит всё, к чему призывает гимн. Он
возропщет и забудет о том, что “есть в испытаньях всех добро”; он перестанет
заботиться о благополучии своих дочерей; он не станет укрощать свои бушующие
страсти; он забудет о хрупкости песочных часов, отмеряющих минуты его жизни.
Наконец, ради сомнительного мрака ночи, он изменит идеалам “света” и “зрения”,
которые провозглашены в самом первом двустишии гимна: “Apollo great, whose
beams the greater world do light (здесь
и далее курсив наш.– Е.Х.-Х.), / And in our little world dost clear our inward sight”, построенном на рифмах light и sight (“Великий Аполлон, чьи лучи и
обширный мир освещают, / И наделяют
проницательностью наш внутренний взор”).
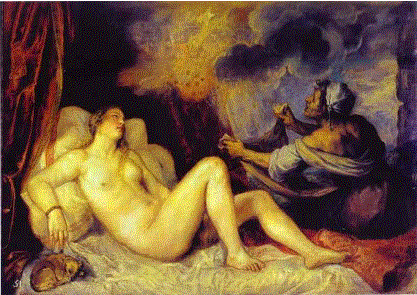 Если нежелание Базилия принять предсказания оракула и наставления
традиционного гимна не препятствует его появлению в пасторальных
интермедиях пастухов, то его письменное отречение от Феба (№ 38),
названное “гимном возлюбленной” (которая “находит в этих и других его медвяных
речах привкус лекарства и вредоносность яда”), становится тем рубежом,
преодолев который герой уже не может вернуться в общество пастухов. После
отречения от Феба Базилий в интермедиях более не появляется: его неодолимо
влечет все ближе к люку-“аду”. Становясь на колени, чтобы вручить свои вирши
“амазонке”, Базилий как бы спускается на нижнюю сценическую площадку; он
становится ниже всех стоящих вокруг него героев. О том, что такое поведение
герцога предосудительно, свидетельствует прозаическое замечание Сидни,
уподобившего коленопреклоненного героя ста-<Конец стр. 122 указ.
издания.>рой
служанке Данаи, которая надеялась поймать в свой фартук несколько капель золотого
дождя, предназначавшегося госпоже[15].
Комизм и неестественность позы герцога усиливаются
в глазах читателя еще и тем, что герцог, сам того не ведая,
преклоняет колени перед переодетым молодым человеком, который в своем обычном
виде сам рад был бы поклониться герцогу, чтобы просить руки его дочери.
Если нежелание Базилия принять предсказания оракула и наставления
традиционного гимна не препятствует его появлению в пасторальных
интермедиях пастухов, то его письменное отречение от Феба (№ 38),
названное “гимном возлюбленной” (которая “находит в этих и других его медвяных
речах привкус лекарства и вредоносность яда”), становится тем рубежом,
преодолев который герой уже не может вернуться в общество пастухов. После
отречения от Феба Базилий в интермедиях более не появляется: его неодолимо
влечет все ближе к люку-“аду”. Становясь на колени, чтобы вручить свои вирши
“амазонке”, Базилий как бы спускается на нижнюю сценическую площадку; он
становится ниже всех стоящих вокруг него героев. О том, что такое поведение
герцога предосудительно, свидетельствует прозаическое замечание Сидни,
уподобившего коленопреклоненного героя ста-<Конец стр. 122 указ.
издания.>рой
служанке Данаи, которая надеялась поймать в свой фартук несколько капель золотого
дождя, предназначавшегося госпоже[15].
Комизм и неестественность позы герцога усиливаются
в глазах читателя еще и тем, что герцог, сам того не ведая,
преклоняет колени перед переодетым молодым человеком, который в своем обычном
виде сам рад был бы поклониться герцогу, чтобы просить руки его дочери.
В основу прощания Базилия с
Фебом положен английский квинтет (т.е. квинтет свободной метрической
организации, рифмующийся абабб[16]). Три квинтета и
“ключ”-двустишие стихотворения помещены в окружение сонетов, из-за чего
визуально они также воспринимаются как сонет, но
сонет деформированный, в котором каждый катрен удлиннился на одну строку.
Возникает впечатление, что Базилий не может совладать со своими эмоциями и
позволяет им выйти за рамки дозволенного, выплеснуться через край. На уровне
стиха это ощущение подкреплено использованием анжамбманов, выбивающихся из
общего ритма стихотворения. Наиболее “преступные” заявления Базилия не
укладываются в строку, но переходят в следующую; тогда стихораздел выделяет
рему – смыслонесущую часть предложения. Так, в конце второй строки
стихотворения к Фебу, после исходной части сообщения “The high conceits thy
heav’nly wisdoms breed…” (“Мысли высокие, что твоя мудрость внушает…”), стих
оканчивается, и далее следует продолжение с неожиданной информацией: “my
thoughts forget” (“…забыты мной”). Таким образом, охваченный страстью Базилий
(который в этот момент протягивает руки к “амазонке”) пытается “растянуть”
строфы сонета и “удлинить” стихотворные строки, в чем, не без комического
эффекта, ему препятствует стихораздел.
Последнее отречение Базилия от
Феба звучит в пещере, которая располагается на самом дне театра: в люке под
названием “ад”. Это наиболее “итальянский” сонет во всей “Старой Аркадии”
(возможно потому, что итальянский сонет традиционно ассоциировался с любовной
темой). После пятистопного ямба, доминирующего в
стихотворных вставках книг-действий, одиннадцатисложные строки этого сонета
воспринимаются как удлиненные. Такой переход Сидни на женские рифмы – нечастое
явление, а в сонетах особенно. Не случайно, анализируя цикл Филипа Сидни
“Астрофил и Стелла”, Л.И. Володарская пишет, что, хотя в песнях поэт и
“вернул английской поэзии женскую рифму”, “в сонетах Сидни использовал лишь
мужскую”[17].
Однако в рассматриеваемом сонете “женские рифмы” появляются – и придают ему
особый “итальянский колорит”. Об этой особенности итальянских сонетов мы можем
прочитать у М.Л. Гаспарова: “В итальянском языке большинство слов имеет
ударение на предпоследнем слоге, и поэтому в итальянском стихе обычно все
окончания – женские. Не будучи, таким образом, обязаны заботиться о чередовании
женских и мужских рифм (как во французском языке <…>), итальянские поэты
могли позволить себе более разнообразную рифмовку в терцетах – например, такую,
как <…>: ВГД ВГД”[18].
Сидни использует здесь слабые глагольные рифмы, <Конец стр. 123 указ.
издания.> а
также рифмы с суффиксом существительного -easure. Вот октет из сонета к ночи:
O night, the ease of care, the
pledge of pleasure,
Desire’s best mean, harvest of
hearts affected,
The seat of peace, the throne
which is erected
Of human life to be the quiet
measure.
Be victor still of Phoebus’
golden treasure,
Who hath our sight with too much sight infected,
Whose light is cause we have our lives
neglected,
Turning all nature’s course to
self-displeasure.
(“О ночь, избавление от забот,
обещание наслаждения, / лучшая пособница желания, жатва сердец, согретых
любовью, / средоточие покоя, престол, воздвигнутый, / дабы с него точной мерой
мерить жизнь человеков. / Торжествуй, как и прежде, над златыми сокровищами
Феба, / который избытком зрелищ воспалил наше зренье, / Чей свет – причина
того, что мы не видим собственной жизни, / источник неудовлетворенности всего
живого”).
Проникнутый пафосом
возвеличения мрака и ночи, этот итальянский сонет по смыслу противоположен
гимну Аполлону, что выражается не только в открытом очернении Феба и в указании
на его опасные качества; сами идеалы “света” и острого “зрения” отвергнуты
Базилием, а рифмы light / sight сдвинуты в сонете к ночи на второстепенные позиции: в середину 6-й и 7-й строк.
С Гинисией, супругой Базилия,
связано шесть стихотворений (№ 40, 41, 42, 43, 54, 58). Бóльшая их часть
представлена в романе как разнообразные надписи, которые находят герои. Одно из
стихотворений (№ 54) начертано на лютне. Еще одно (две эпиграмматические
строки, напоминающие финал английского сонета, остальные строки которого
утрачены) – на бутылке с зельем, которое, по семейному преданию, помогло ее
бабушке и дедушке создать домашний очаг. Гинисия полагает, что это зелье –
приворотное, так как надпись гласит: “Let him drink this whom long in arms to
fold / Thou dost desire, and with free power to hold” (“Дай выпить тому, кого
ты жаждешь сжать в долгих объятьях и обнимать безо всяких
помех”). Только в самом конце романа, когда отравившийся этим зельем Базилий пробудится от глубокого сна, станет ясно, что зелье Гинисии не
приворотное, не ядовитое, а всего лишь снотворное.
В целом стихотворениям Гинисии
присущи многие особенности, которые свойственны стихам Базилия: они лишены
музыкального сопровождения; в них выражается недоверие к Аполлону и звучит
мотив превращения лекарства в яд. Подобно Базилию, Гинисия разрушает форму
английского сонета и склонна к использованию итальянских стихотворных форм
(таким, как тосканская октава, – № 54). Как и Базилий, его супруга
действует главным образом на нижних ярусах сценической площадки. <Конец стр. 124 указ.
издания.>
Пирокл и Филоклея – еще одна
пара правителей в Аркадии; они повинуются не низким страстям (как Базилий и
Гинисия) и не рассудку (как Мьюзидор и Памела), но здоровым стремлениям души и
тела. Они никогда не порочат в своих песнях Аполлона. Вместе с тем они
обращаются за поддержкой к Купидону. Благодаря такой “лояльности” по отношению
к обоим божествам Пирокл и Филоклея произносят подавляющее большинство своих
речей на среднем уровне сцены. Думается, тяготение Пирокла и Филоклеи к земным
радостям и их срединное положение между “низменным” и “возвышенным” мирами
объясняет немалую роль античной – языческой по происхождению – лирики в истории
их любовных отношений: Пирокл участвует в исполнении пастушеских эклог и вносит
в интермедии сапфические строфы (№ 12), подражания Анакреонту (№ 32)
и фалекий (№ 33)[19].
Основной корпус его стихов – экспериментальные сонеты английского типа (обычно
с чересчур жестко заданными рифмами). Остановимся на роли ключевых стихотворений в его
судьбе.
Трем отречениям Базилия у
Пирокла соответствуют три менее “крамольных” сонета. Первый раз он
“переворачивает” социальную иерархию, отказываясь от своего облика принца и
разумного мужского поведения, переодеваясь в амазонку. В платье амазонки он
исполняет сонет (№ 2), стоя посередине сцены, около покоев Филоклеи. В
этом стихотворении звучат три мотива: подвластность влюбленного своему зрению,
неотступно следящему за возлюбленной; сила владеющих им любовных мыслей;
необходимость прислушиваться к голосу рассудка. Чередование этих мотивов и
отказ от власти рассудка в пользу чувств становятся определяющим для дальнейшего поведения Пирокла. Лишь
только Пирокл оказывается во власти Купидона, он неизбежно повинуется
собственному зрению.
Дальнейшее удаление Пирокла от
царства Аполлона опосредованно выражено через обращение героя к Купидону. Оно
принимает форму английского сонета с банальными рифмами (№ 20). Не умея
вырваться из “любовного четырехугольника”, в который он попал – Пирокла любят
Базилий и Гинисия, тогда как сам он страдает от любви к Филоклее, – наш герой
обнаруживает недостаток изворотливости и смекалки. Такое отсутствие
сообразительности проявляется в банальности избранных им рифм: fire / desire, thee / be, still / kill (“огонь / желание”,
“ты / будь”, “бездыханно / убить”).
Обратившись за подмогой к
коварному Купидону вместо Аполлона, Пирокл спускается на нижние ярусы сцены и
оказывается у самого входа в пещеру-“ад”. Там он громогласно (но без музыкального сопровождения, что для него не
типично) в третий раз отрекается от Аполлона,
отдав предпочтение мраку перед светом. Это тут же отражается на его выборе
рифмующихся слов: light и dark. На две рифмы, “свет” и
“мрак”, появляется в романе “сплошной”[20]
английский сонет (№ 39) – самый “скованный” из сонетов романа. Подобно
“темнице”, описанной в сонете и стесняющей движения тела, ограниченное число
рифм, нагнетание повторов и жестко заданная <Конец стр. 125 указ.
издания.> строфическая
анафора (“С тех пор как…”) стесняют здесь движение мысли. Вот первый катрен и
заключительное двустишие из упомянутого сонета:
Since that the stormy rage of
passions dark
(Of passions dark, made dark
by beauty’s light)
With rebel force hath closed
in dungeon dark
My mind ere now led forth by
reason’s light;
<…>
I like this place where, at
the least, the dark
May keep my thoughts from
thought of wonted light.
(“С тех пор как бушующие
темные страсти / (Ставшие темными при свете ее красоты) / Восстали против
разума и помрачили / Мой рассудок, который прежде был светел, / <…> / Мне
стал любезен этот щадящий мрак, / Помогающий забыть о том, что где-то есть
привычный и желанный свет”).
На этом отречения Пирокла
заканчиваются. Чтобы обрести свободу, герою приходится избрать путь наверх,
обратиться к солнечному лагерю: к Авроре. Выбор рифмующихся слов, омонимичных ключевым словам гимну Аполлону light и wait (“свет” и “ждать”), к моменту исполнения следующего
сонета Пирокла (№ 56) не может остаться незамеченным:
Aurora, now thou show’st thy
blushing light
(Which oft to hope lays out a
guileful bait,
That trusts in time to find
the way aright
To ease those pains which on
desire do wait)
Blush on for shame that still
with thee do light
On pensive souls (instead of restful
bait)
Care upon care (instead of
doing right)
To overpressed breasts, more
grievous weight.
As oh! Myself, whose woes are
never light,
Tied to the stake of doubt,
strange passions bait;
While they know course,
observing nature’s right,
Stirs me to think what dangers
lie in wait.
For mischiefs great, day after
day doth show;
Make me still fear thy fair
appearing show.
(“Аврора, вот и твой
зардевшийся свет / (Который манит меня надеждой на то, / Что найдется верный
путь / И уймутся мучения страсти). / Красней, стыдясь, что вместо облегченья /
Ты приносишь мечтательным душам / Еще бóльшие тяготы – / И новый тяжкий груз
ложится на их и без того придавленную грудь. / Увы! И я сам страдаю; / Я
прикован к столбу сомнений; необыкновенные
страсти, словно злые псы, нападают на меня. / Когда
они, как им
положено, грызут меня, / Я вздрагиваю при мысли:
какие напасти еще ожидают меня? / Итак, каждый новый день сулит мне великие муки, / Поэтому твое восхитительное появление
наводит на меня ужас”). <Конец стр. 126 указ. издания.>
Пирокл видит себя “зверем”,
прикованным к столбу и затравленным страстями. Но в отличие от Базилия, который
в сонете к ночи сделал окончательный выбор в пользу мрака, в стихотворении
Пирокла ожидание света, отказ от ослепления и восхищение Авророй, выделенное
парономазией в последней строке сонета (fear и fair), явно свидетельствуют о том,
что его окончательный выбор – двигаться прочь от дьяволоподобного Купидона.
Очень скоро настанет момент торжества Пирокла, когда он, избавившись от маски
амазонки, вернет себе мужской облик и соединится с Филоклеей.
В стихах момент торжества
Пирокла будет отмечен блазоном (№ 62), который станет последним его стихотворением. Поскольку
влюбленные заключают друг друга в объятия, еще не будучи повенчанными, им не
поют эпиталам. Блазон “What tongue can her perfections tell” (“Какой язык
способен коснуться ее прелестей”), написанный четырехстопным ямбом и состоящий из 73 двустиший, становится
свадебной песней, предназначенной для зрителей – “прекрасных леди” (среди
которых – Мэри Пемброук) – и отвлекающей их внимание от уединившихся Пирокла и
Филоклеи. Блазон Сидни, содержащий изысканное описание обнаженной красавицы, в
течение многих лет был одним из самых популярных его произведений – он включен
во многие рукописные собрания стихотворений и в сборник “Английский Парнас”[21]
1600 г.
Единение Пирокла и Филоклеи
описано также и в прозе: буффон Даметас случайно находит спящих влюбленных.
Описывая удивление Даметаса, Сидни не без юмора сравнивает его с Психеей,
склонившейся над прекрасным Амуром. Так в “Старой Аркадии” снова появляется
Купидон, но на сей раз косвенным образом. Это последнее прославление бога любви
в романе; более ему не посвящается хвалебных стихов, не превозносят его и в
прозе. Аполлон, таким образом, одерживает над ним окончательную победу.
Из стихотворного ряда Филоклеи
следует отметить “коррелятивный” сонет (correlative verse) № 60, который
она исполняет в минуту горькой ревности, находясь в своей комнате (т.е. на
средней сценической площадке). Слова в сонете пронумерованы и в рукописях
“Старой Аркадии”, поскольку соотносящиеся по номерам слова должны соотноситься
между собой и по смыслу – отсюда слово “коррелятивный”. Так, второе слово
“красота” начинает следующую цепочку: “<Его> красота <меня> тронула.
Очам он стал мил. <Она> наградила его лик приятностью”.
Virtuei, beautyii,
and speechiii,
did strikei,
woundii, charmiii,
My hearti, eyesii,
earsiii,
with wonderi,
loveii, delightiii:
First, second, last, did bind, enforce, and arm,
His works, shows, suits, with wit, grace, and vow’s
might.
(“<Его> добродетельi,
красотаii и речьiii <меня> поразилаi,
тронулаii, околдовалаiii. / Сердцуi, очамii,
слухуiii он стал любi, милii, сладокiii.
/ Первая, вторая и третья отличила, наградила, подкрепила / Его дела, лик,
ухаживания разумностью, приятностью и силой клятв”). <Конец стр. 127 указ.
издания.>
Форма сонета Филоклеи,
выбранная автором, оказывается чрезвычайно уместной. Филоклея, которая поначалу
вторит своим родителям, здесь наконец начинает вторить голосу Пирокла. Вслед за
Пироклом, порой подражающим – насколько это возможно – античным размерам,
Филоклея отступает от силлаботоники: исполняя “коррелятивный” сонет английского
типа (английский сонет, как мы видели, излюблен Пироклом), она использует
множество сверхсхемных ударений и односложных стоп. Как бы в согласии с
Пироклом, любящим число три (ср. три ключевых слова eyes – mind – reason (“глаза – мысли – рассудок”)
первого стихотворения Пирокла), Филоклея группирует слова сонета на тройки.
Согласие влюбленных выражается и в том, что их стихотворения в романе всегда
помещены рядом.
Мьюзидор и Памела[22]
– самая совершенная правящая чета: она ближе всего к Аполлону, ибо действия и
слова этих героев практически всегда подчинены рассудку. Мьюзидор, правда,
иногда отступает от этого правила: почти соблазнившись видом невинно спящей
Памелы, он на какой-то миг становится опасно близок к демоническому Купидону.
Колыбельная для нее, “Lock up, fair lids, the treasures of my heart”
(“Сомкнитесь прекрасные вежды, сокровища моего сердца” – № 51), которую
Мьюзидор при этом поет, начинается очень светло – с
использованием рифмующихся слов light и might (“свет” и “могущество”). Вначале форма стихотворения
близка английскому сонету, поскольку в первых двух катренах используются
перекрестные рифмы. Но по мере любования Памелой Мьюзидор вдруг переходит к
итальянскому секстету и красноречиво заканчивает уже трансформированный сонет
словом “ночь” (night). Обычно же Мьюзидор и Памела своим пением восхваляют Аполлона, или
солнце. Мьюзидор завершает свое перемещение по сцене Аркадии выступлением на
королевском балконе: здесь он исполняет свой последний сонет о принятии смерти
как божественной воли (№ 77). Памела тоже никогда не забывает о своем
достоинстве наследной принцессы. Памела – единственный женский персонаж “Старой
Аркадии” (кроме мнимой “амазонки”), чей голос, пусть и прозой, звучит не только
в книгах-действиях, но и в интермедиях. Она носит пастушеское одеяние, но из
дорогой материи. И в отличие от Гинисии и Филоклеи она не становится пассивным
отражением возлюбленного; напротив, Мьюзидор часто следует ее примеру как в
одежде (он переодевается пастухом, увидев Памелу), так и в пении (Мьюзидор
продолжает песню Памелы, когда они вместе останавливаются в лесу – № 50).
Столь царственный женский образ был очень уместен в романе, писавшемся в то время, когда на английском троне была Елизавета I.
Несмотря на необычайную силу характера Памелы, ее
дуэт с Мьюзидором – самый слаженный из всех дуэтов Аркадии.
По числу и жанровому
разнообразию исполняемых стихотворений, т.е. по своему красноречию, Мьюзидор
(что соответствует его имени “дар муз”) превосходит всех героев романа. Он
участвует в сложении и исполнении 20 стихотворений (№ 4, 7, 11, 13, 16,
17, 23, 26, 28, 34, 35, 36, 44, 45, <Конец стр. 128 указ. издания.> 46, 49, 50, 51, 68, 77).
Мьюзидор в совершенстве владеет различными стилистическими регистрами.
Песни высокого стилистического
регистра Мьюзидор, переодетый пастухом, исполняет для своей возлюбленной. Одна
из песен, “Since so mine eyes are subject to your sight” (“Поскольку мои глаза
столь подчинены твоим взорам” – № 16), по форме напоминающая неполный
сонет (являющийся своеобразной комбинацией сонета итальянского и английского
типов, поскольку выделимы в нем как секстет, так и
“ключ”-двустишие: абаб бвгвгг), одновременно достигает слуха двух совершенно разных
девушек: благородной Памелы, страждущей в заточении, и ее малопривлекательной
стражницы Мопсы, в которую принц-пастух из конспирации притворяется влюбленным.
Сладостная мелодия арфы, ритм стиха и глубокомысленные речи Мьюзидора действуют на Мопсу усыпляюще. Памела же, напротив, оживлена
изысканной риторикой и пением. Описанное Сидни восприятие сонета двумя
героинями, – одна из которых, согласно принятым социальным нормам, находится
неизмеримо выше другой, – служит недвусмысленным комментарием ко вложенному в
уста Мьюзидора произведению. Сочувствие и одобрение благородной принцессы указывают на совершенство песни Мьюзидора.
Однако Мьюзидор владеет и
другим стилистическим регистром: пародийным. Его пародийные стихи – это своего
рода иллюстрирующие примеры к некоторым декларациям Сидни в “Защите поэзии”, –
тем, в частности, где Сидни осуждает поэтов, которым изменяет чувство меры:
“Почтенную сладкоголосую даму красноречие вырядили или скорее раскрасили как
куртизанку: то вдруг вставляют такие слова, которые бедняге англичанину кажутся
незнакомыми чудовищами; то вдруг устраивают облаву на какую-нибудь букву, и
такое сочинение начинает напоминать словарь; то вдруг являются украшения из
побитых морозом цветов и тропов”[23].
Но Мьюзидор в “Аркадии” раскрашивает сонет, “как куртизанку”, осознанно, с
целью вызвать действенную реакцию у своей аудитории. И “померзшие тропы”
находят своего почитателя: это Мизо (родительница уже упомянутой Мопсы). В
третьей книге романа Мьюзидор, в чьи планы входит избавить Памелу от
постоянного надзора Мизо, отправляет последнюю в бессмысленную погоню за
вымышленной возлюбленной Даметаса. Свой вымысел о неверности Даметаса
находчивый Мьюзидор подкрепляет “свидетельством”: он приводит якобы
подслушанную им песню (№ 45), которую – по его уверению – пела, приняв
нескромную позу, очаровательная пастушка Харита:
My true love hath my heart,
and I have his,
By just exchange, one for the other given.
I hold his dear, and mine he
cannot miss:
There never was a better
bargain driven.
His heart in me, keeps me and
him in one,
My heart in him, his thoughts
and senses guides.
He loves my heart, for once it
was his own:
I cherish his, because in me
it bides. <Конец
стр. 129 указ. издания.>
His heart his wound received
from my sight:
My heart was wounded, with his
wounded heart,
For as from me on him his hurt
did light,
So still methought in me his
hurt did smart:
Both equal hurt, in this
change sought our bliss:
My true love hath my heart,
and I have his.
(“Мой возлюбленный похитил мое
сердце, а я – его. / По-честному мы обменялись с ним: одно сердце за другое. /
Я бережно храню его сердце, а он – мое; / Как повезло со сделкой нам двоим! /
Его сердце – во мне, мы – одно целое. / Мое сердце – в нем, движет его мыслями и чувствами. / Он любит мое сердце, ведь
когда-то оно принадлежало ему; / Я дорожу его сердцем, ведь оно пребывает во
мне. / Его сердце ранено моим взглядом; / Мое сердце получило рану от его раненого
сердца, / Ведь когда я наношу удары его сердцу, / Его сердце страдает в моей
груди. / Обоюдно измученные, мы счастливы, что обменялись сердцами! / Мой
возлюбленный похитил мое сердце, а я – его”).
Ничто – ни злоупотребление
штампами любовной поэзии (“обмен сердцами”), ни банальность рифм, ни нагнетание
гласных с придыхательным приступом в комбинации с рядом шумных согласных, his
heart, my heart, hath, have, hurt, his, miss, bliss, (что создает впечатление
чувственного шипения), ни относящееся к низкому регистру слово “сделка”, bargain
driven,
(комически нарушающее лирическую атмосферу) – не расценивается Мизо как нечто
вульгарное, чуждое нормам куртуазности и, следовательно, пародийное. Напротив,
стиль сонета соответствует ее пониманию пленительности любовного пения и
убеждает в правдоподобности услышанного.
Расхождение между “формой”
сонета Хариты и его “содержанием” мы находим и в распределении материала по
строфам. Будучи сонетом английского типа, песня вымышленной Хариты самой своей
организацией формирует у читателя предчувствие, что развитие темы в трех
катренах (удачная “сделка”; умножение ласки; умножение боли) завершится
оригинальным заключительным двустишием, выводящим мысль на новый смысловой
виток. Это ожидание подкреплено тем, что многие сонеты Сидни знамениты своим
парадоксальным сонетным “ключом”[24]. Здесь же, вопреки ожиданию, концовка
являет собой всего лишь однообразное повторение первой строки, неизменно
окрашенной ироничной улыбкой Мьюзидора. Сонет, которому по природе полагается
быть динамичным, здесь лишается этой черты. Удивляющее читателя отсутствие
смысловой градации в сонете – сознательно используемый Сидни прием. Этот же прием (т.е. монотонное сонетное кольцо) Сидни использует в одном из любовных сонетов
Базилия ( “Let not old age disgrace my high desire” – № 15[25]),
обращенном к “амазонке”, которую последний, забывая о своем долге и о жене,
назойливо преследует. Но, так же как и Харита, возлюбленная Базилия – не
настоящая, ее не существует. Та, кого Базилий принимает за амазонку, на самом
деле переодетый юноша. <Конец
стр. 130 указ. издания.> Обнаруживается закономерность: однообразное сонетное
кольцо в рамках “Старой Аркадии” соотносится с мотивом супружеской неверности,
иллюзии, самообмана, поддавшись которым, герой становится смешным.
Мьюзидор – постоянный участник
поэтического состязания между аполлоническими и лирическими формами: его стихи
появляются во всех пяти действиях и в двух первых интермедиях. В интермедиях он
с готовностью включается в традиционные пастушеские поэтические дебаты и
составляет компанию Пироклу в пении любовных песен. Так, в конце второй
интермедии он исполняет “асклепиадовы строфы” (№ 34). Мьюзидор является
участником пастушеского дебата во второй книге – под звуки свирели он исполняет
сонет (№ 23), состоящий из строф, рифмующихся по образцу дантовских терцин
(аба бвб вгв гдг) и сонетного “ключа” (дд)[26].
Этот сонет Мьюзидора отчасти напоминает отречение Базилия от Аполлона, но с тем отличием, что Мьюзидор не хулит бога, а всего
лишь славит свою возлюбленную Памелу как солнце и божество.
Однако когда Мьюзидора
обвиняют в отравлении Базилия и приговаривают к смертной казни, он отдает
окончательное предпочтение Аполлону и исполняет во имя Аполлона песню, которую
Сидни называет “лебединой” (№ 77). В полном согласии с гимном Аполлону
(“Есть в испытаньях всех добро, таков закон”) песнь Мьюзидора призывает к
смиренному принятию всего, что дарует жизнь, вплоть до ее прекращения. Таково
последнее стихотворение романа “Старая Аркадия”.
Если в пяти книгах-действиях (судя по тематике, месту
произнесения и организации использованных стихотворных форм) отстоять
аполлонические идеалы помогают Мьюзидор и Памела, то пастухи интермедий никогда
не отрекаются от своего солнечного божества. Именно поэтому они никогда не
спускаются на нижний ярус сцены, но движутся только по восходящей. Эклоги и
плясовые песни, особенно почитаемые пастухами, присущи многим пасторалям, и
поэтому здесь мы их рассматривать не будем. Но в интермедиях “Старой Аркадии”
есть несколько стихотворений, которые как бы являются “аполлоническим” ответом
на представленные в книгах-действиях стихотворения сторонников Купидона.
Упомянем среди таковых эпиталаму (№ 63) и фаблио (№ 64), к которому примыкает сонет, содержащий назидание
(№ 65).
Пастух Дикус, известный своей нелюбовью к Купидону,
поет эпиталаму “Let mother earth now deck herself in flowers” (“Да обрядится
матушка-земля цветами”) в третьей интермедии во время празднования пастушеской
свадьбы. Любопытно, что Сидни, любитель поэтических экспериментов, создал эпиталаму
(ставшую одним из первых английских образцов этого жанра) в подражание
свадебной песни из “Дианы” (ок. 1559 г.) Хорхе Монтемайора[27].
Эпиталама Сидни включает одиннадцать девятистишных строф. Девятый стих в каждой
из десяти первых строф служит припевом – молитвой, обращенной к Гименею: “O
Hymen long their coupled joys maintain” (“О Гименей, всегда будь им <Конец стр. 131 указ. издания.> поддержкой в супружеской радости”); в самой последней
строке песни рефрен заменен пожеланием: “For
Hymen will their coupled joys maintain” (“И Гименей будет им поддержкой в
супружеской радости”). Эпиталама Дикуса противопоставлена блазону, в котором
прославляется любовь Пирокла и Филоклеи. Главный бог любви для Дикуса не
Купидон, а Гименей, который и занимает в Аркадии
место изгнанного Купидона.
Фаблио (126 стихов) и следующий за ним английский
сонет, в котором содержится нравоучительный вывод (“Кто хочет, чтобы жена ему
была верна, / Тот должен быть правдив и неревнив”), продолжают свадебные
песнопения. Исполняют их два юных деревенских пастушка. Историки литературы
считают фаблио Сидни неудачным[28].
Причина такой оценки, видимо, в том, что поэт использовал для своего
стихотворения обычный сюжет (неудачный брак и супружескую измену) и
недостаточно сниженный стиль. Сюжет фаблио прост: немолодой муж своей
подозрительностью провоцирует юную и красивую жену на измену. Когда в их доме
появляется молодой гость из свиты государя, муж сначала велит своей жене во
всем угождать гостю, а затем начинает преследовать невинную супругу ревностью:
With chumpish looks, hard words, and secret nips,
Grumbling at her when she his kindness sought,
Asking her how she tasted courtier’s lips,
He forced her think that which she never thought.
In fine, it made her guess there was some sweet
In that which he so feared that she should meet.
(“Угрюмо глядя на жену, преследуя ее злыми словами и
не упуская случая ее тайком ущипнуть, /
Ворча на нее, когда она жаждала ласки, / Вопрошая, как ей понравился вкус губ
придворного гостя, / Он вынудил ее думать о том, о чем она ранее не помышляла.
/ В конце концов у нее возникло подозрение, что существует некая сладость / В
том, к чему муж ее не допускал”).
Примечательно, что фаблио
Сидни написано преимущественно десятисложником, и рифма здесь парная лишь в
завершающих стихах каждого шестистишия. Подобная строфическая организация не
типична для большинства фаблио, которые восходят к французским образцам
XII-XIII вв.[29] Французские фаблио писались обычно восьмисложником с парной
рифмой: размер этот был удобен для рассказа о любом событии на французском
языке и появлялся в большинстве других французских произведений того времени[30].
Сидни, однако, писал свое фаблио по-английски; в Англии со времен Чосера
доминировал десятисложник, которым написано и большинство стихотворных вставок
“Старой Аркадии”. Поэтому, оставив вопрос об “удачности” сиднеевского фаблио,
отметим, что это дидактическое стихотворение представляет собой своеобразный
ответ на ряд фарсовых эпизодов, описанных прозой в третьей книге романа, в
которых Пирокл-“амазонка”, подстроив несколько приключений в темной спальне,
вынуждает Базилия и Гинисию удалиться в пещеру и освобождает тем самым дом, в
котором ос-<Конец
стр. 132 указ. издания.>тается лишь возлюбленная Пирокла. В прозаической части
книги-действия не разоблачаются ни глупость Базилия, ни лицемерие Гинисии, ни
порочность замыслов Пирокла. И только фаблио интермедии (с примыкающим
английским сонетом) служит неназойливым комментарием к ночным авантюрам героев,
напоминая, что аполлоническая система ценностей отнюдь не понесла ущерба.
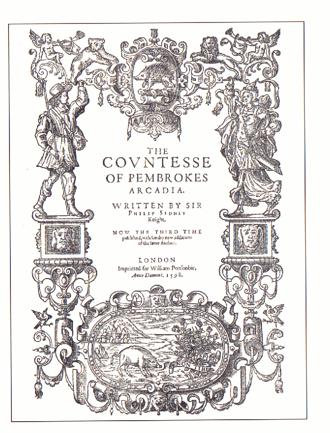 Мы рассмотрели текст романа Филипа Сидни, вышедшего в оксфордском издании под редакцией Джин Робертсон
(первое издание 1973 г.), основанном на сравнении десяти известных
рукописей “Старой Аркадии” (авторская рукопись считается утраченной). Столь
значительное число манускриптов обусловлено тем, что, хотя роман был написан
Филипом Сидни для его родной сестры Мэри Пемброук, он пришелся по вкусу
широкому кругу читателей. Списки делались от руки и были хорошо известны всему
двору. Известность заставила автора внести правку в свое произведение, сообщив
ему бóльшую моральную строгость. В новой версии романа Сидни описал действия
принцев в более выгодном свете, опустив сцену соблазнения Филоклеи, попытку
самоубийства Пирокла, а также нравственное падение Мьюзидора, почти решившегося
овладеть спящей Памелой. Появились в пересмотренной “Аркадии” и новые сюжеты,
такие, как трагедия ослепленного короля Пафлагонии, позже использованная
Вильямом Шекспиром для трагической истории Глостера в “Короле Лире”. Претерпели
изменение и стихотворные вставки: совершенно иным стало их расположение. Новый
вариант книги так сильно отличался от изначального, что написанная для сестры
“затейливая книжка” со временем стала называться “старой”, т.е. “прежней”, а
пересмотренный ее фрагментарный вариант (до 1586 г., когда Сидни получил
смертельное ранение, он успел переработать лишь три первые книги-действия) был
назван “Новой Аркадией”.
Мы рассмотрели текст романа Филипа Сидни, вышедшего в оксфордском издании под редакцией Джин Робертсон
(первое издание 1973 г.), основанном на сравнении десяти известных
рукописей “Старой Аркадии” (авторская рукопись считается утраченной). Столь
значительное число манускриптов обусловлено тем, что, хотя роман был написан
Филипом Сидни для его родной сестры Мэри Пемброук, он пришелся по вкусу
широкому кругу читателей. Списки делались от руки и были хорошо известны всему
двору. Известность заставила автора внести правку в свое произведение, сообщив
ему бóльшую моральную строгость. В новой версии романа Сидни описал действия
принцев в более выгодном свете, опустив сцену соблазнения Филоклеи, попытку
самоубийства Пирокла, а также нравственное падение Мьюзидора, почти решившегося
овладеть спящей Памелой. Появились в пересмотренной “Аркадии” и новые сюжеты,
такие, как трагедия ослепленного короля Пафлагонии, позже использованная
Вильямом Шекспиром для трагической истории Глостера в “Короле Лире”. Претерпели
изменение и стихотворные вставки: совершенно иным стало их расположение. Новый
вариант книги так сильно отличался от изначального, что написанная для сестры
“затейливая книжка” со временем стала называться “старой”, т.е. “прежней”, а
пересмотренный ее фрагментарный вариант (до 1586 г., когда Сидни получил
смертельное ранение, он успел переработать лишь три первые книги-действия) был
назван “Новой Аркадией”.
Существует и третья редакция “Аркадии”, называемая
“Аркадия графини Пемброук”, которая была составлена сестрой поэта из двух
первых редакций (три книги “Новой Аркадии”, включившие множество новых или
преобразившихся героев, были присоединены к двум последним книгам “Старой
Аркадии”). Эта редакция была опубликована в 1593 г.; в историях литературы
ее называют “кентавром”. Поскольку все полные рукописи “Старой Аркадии” к
1586 г. считались утраченными, именно этого “кентавра” изучали читатели на
протяжении более чем 300 лет. Сюжеты и мотивы, появившиеся на страницах
“Аркадии графини Пемброук”, узнаваемы в шекспировских пьесах “Два веронца”, “Как вам это понравится”, “Король Лир”, “Перикл”[31].
Этого “кентавра” упоминал Гораций Уолпоул в 1768 г. как “занудный,
душещипательный, педантичный пасторальный роман, который нынче, несмотря на все
свое терпение, не одолеет даже юная влюбленная девица”[32].
И этого же “кентавра” в 1820 г. У. Хэзлитт
называл “забытым на книжных полках памятником, свидетельствующим, что его автор
был одним из первейших людей и наихудших писателей Елизаветинской эпохи”[33].
<Конец стр. 133 указ. издания.> Аналогичную, менее чем снисходительную, характеристику
получила “слепленная” “Аркадия” и в 1932 году от Вирджинии Вульф и от
Т.С. Элиота[34].
Однако не все были в восторге, когда долго считавшийся пропавшим список
“Старой Аркадии” был обнаружен в 1907 г. Бертрамом Добеллем[35]
и опубликован в 1926 г. в редакции Фьюллерата. Среди недовольных оказался К.С. Льюис, к ужасу своему увидевший темную
сторону Мьюзидора и Пирокла. Но главным возражением Льюиса против “Старой
Аркадии” являлось то, что не эту “Аркадию”
читали и Шекспир, и Карл Первый, и Мильтон, и Чарльз Лэм[36].
И тем не менее аристократические современники Сидни, связанные с литературой, знали именно эту, старую “Аркадию”.
Именно в “Старой Аркадии”
Сидни выстраивает своеобразную жанровую иерархию лирических форм, в которой,
как правило, низшее место отводится итальянским сонетам, срединное – античным
лирическим жанрам, а также средневековой иноземной поэзии (фаблио, блазон),
наивысшее – правильным, искусно сложенным (но не перегруженным повторами слов и
строк) английским сонетам. Эта иерархия отвечает уверенности Сидни в том, что
английской словесности суждено великое будущее.